



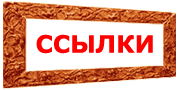
Л. АЛЬБЕРТИ
Три книги о живописи
Книга первая.
В этих весьма кратких записках о живописи мы прежде всего, дабы речь наша была возможно более ясной, заимствуем от математиков те положения, которые относятся к нашему предмету, и, усвоив их, изложим живопись, начав от ее природных первоначал, насколько это позволит наше дарование. Однако я очень прошу, чтобы при каждом нашем рассуждении имели в виду, что я пишу об этих вещах не как математик, а как живописец; математики измеряют форму вещей одним умом, отрешившись от всякой материи, мы же, желая изобразить вещи для зрения, будем для этой цели пользоваться, как говорят, более тучной Минервой и вполне удовольствуемся тем, что читатель нас так или иначе поймет в этом поистине трудном и, насколько я знаю, никем еще не описанном предмете. Итак, я прошу, чтобы слова наши были истолкованы только как слова живописца.
С самого же начала, утверждаю я, мы должны знать, что точка есть некий знак, который не может быть разделен на части. Знаком я здесь называю все то, что находится на поверхности, будучи доступно нашему зрению. Что же касается вещей, которые мы не можем видеть, никто не будет отрицать, что они никакого отношения к живописи не имеют. Живописец должен стараться изобразить только то, что видимо.
Точки же, соединенные друг с другом в непрерывном ряду, вырастают в линию, и у нас линия будет знаком, длина которого делима, но который в ширину настолько тонок, что не может быть рассечен. Из линий одни называются прямыми, другие кривыми. Прямая линия будет длинным знаком, прямо протянутым от одной точки к другой. Кривая линия пойдет от одной точки к другой не прямо, но подобно дуге лука.
Много линий, соединенных подобно многим нитям в ткани, образуют поверхность, и поверхность есть некая крайняя часть тела, которая познается не в своей глубине, а только лишь в своей длине и ширине, а также в своих качествах. Из качеств одни постоянно присущи поверхности, так что если не меняется поверхность, они никак от нее не могут быть отняты. Другие качества таковы, что, в то время как сущность поверхности остается неизменной, они все же представляются взору смотрящего измененными.
<...> Сначала скажем о месте, а затем о свете и исследуем, каким образом поверхности благодаря этому качеству кажутся изменившимися. Это относится к зрительной способности, ибо при перемене места предметы кажутся либо большими, либо иными, либо другого цвета, - ведь все это мы измеряем зрением. Поищем для этого основания, начав с суждения философов, утверждающих, что поверхности измеряются некими лучами, как бы служителями зрения, именуемыми поэтому зрительными, которые передают чувству форму предметов. Мы же здесь вообразим себе, что эти лучи - как бы тончайшие нити, образующие, с одной стороны, подобие ткани (тарра), а с другой - очень туго связанные внутри глаза, там, где помещается чувство зрения, а оттуда, как из ствола всех этих лучей, этот узел распространяет прямейшие и тончайшие свои ростки вплоть до противолежащей поверхности.
Между этими лучами существуют различия, которые нам необходимо знать. Различия эти зависят от действия и от назначения луча. Одни из лучей, достигнув края поверхности, изменяют все ее протяжения (guantita). Итак, поскольку они упираются в крайние и наружные части поверхности, назовем их крайними, или наружными. Другие лучи распространяются до глаза от всей спины поверхности, и они имеют свое назначение в том, что наполняют пирамиду, о которой мы скажем ниже, в своем месте, теми яркими цветами и светами, которыми сияет поверхность. И пусть такие лучи будут называться средними. В числе зрительных лучей есть один луч, именуемый центральным. Этот луч, когда достигает поверхности, образует во все стороны вокруг себя прямые и равные углы. Он называется центральным по сходству с упомянутой выше центральной линией.
Итак, мы установили три разновидности лучей: крайние, средние и центральные. Исследуем теперь, как каждый из этих лучей участвует и зрении. Сначала мы скажем о крайних, затем о средних и, наконец, о центральном.
Крайними лучами измеряются протяжения. Протяжением называется всякое расстояние на поверхности от одной точки края до другой. И глаз измеряет эти протяжения зрительными лучами, как ножками циркуля. В каждой поверхности столько же протяжений, сколько расстояний между точками, ибо, какие бы мы ни определяли размеры или измерения, глядя на поверхность, будь то вышина снизу вверх, или ширина справа налево, или толщина между близким и далеким, мы для этого всегда пользуемся этими наружными лучами. Поэтому и говорят, что при зрении образуется треугольник, основание которого - видимое протяжение, стороны же - это лучи, которые от точек протяжения тянутся до глаза; и не подлежит никакому сомнению, что ни одно протяжение не может быть увидено без треугольника. Углы этого треугольника, во-первых, там, где обе точки протяжения, а третий угол, лежащий против основания, находится внутри глаза.
Здесь правила таковы: чем острее угол в глазу, тем видимое протяжение будет казаться меньше. Отсюда понятно, почему очень отдаленное протяжение кажется не больше точки. И все же, хотя это так, существует такое протяжение, такая поверхность, которая тем меньше видна, чем она ближе, и на которой издали видно гораздо больше ее частей. Доказательство этому можно видеть на сферическом теле. Итак, протяжения в зависимости от расстояния кажутся большими или меньшими. И тот, кто как следует прочувствует то, что было сказано, поймет, каким образом при перемене расстояния наружные лучи делаются средними и точно так же средние - наружными. И поймет, что когда средние лучи сделаются наружными, тотчас же это протяжение покажется меньшим. И наоборот: когда крайние лучи будут направлены внутрь от края, то чем дальше они от края, тем видимое протяжение будет казаться большим. В этом месте я в кругу своих друзей обычно даю следующее правило: чем больше ты берешь для зрения лучей, тем большим кажется тебе то, что ты видишь, и чем меньше лучей - тем меньшим. Эти наружные лучи, окружая поверхность таким образом, что один касается другого, замыкают собой всю поверхность, как ивовые прутья клетку, и образуют то, что называется зрительной пирамидой. Итак, мне предстоит сказать, что такое зрительная пирамида и каким образом она строится из этих лучей. Мы опишем ее на свой лад. Пирамида будет иметь форму такого тела, от основания которого все проведенные вверх прямые линии упираются в одну точку. Основанием этой пирамиды будет видимая поверхность. Стороны пирамиды - те лучи, которые называются наружными. Острие, или вершина пирамиды, находится внутри глаза, там же, где и угол протяжений.
До сих пор мы говорили о наружных лучах, которые образуют пирамиду, и мне кажется, что я достаточно показал, каковы различия в зависимости от большего или меньшего расстояния между глазом и тем, что мы видим.
Следует теперь сказать о средних лучах, множество которых находится в пирамиде внутри наружных лучей; лучи эти делают то, что говорится о хамелеоне - животном, которое принимает цвет всякого близкого ему предмета, ибо от того места, где они касаются поверхности, и вплоть до самого глаза они всюду принимают цвета и света, имеющиеся на поверхности, так что где бы ты их ни рассек, всюду найдешь их одинаково освещенными и окрашенными. Однако установлено, что от большого расстояния они слабеют. Это происходит, думается мне, оттого, что они, отягощенные светом и цветом, проходят через воздух, который, будучи увлажнен некоей плотностью, истощает отягощенные лучи. Отсюда извлекаем правило: чем больше расстояние, тем видимая поверхность будет казаться темнее.
Нам остается сказать о центральном луче. Центральным лучом будет тот единственный луч, который упирается в протяжение так, что все углы, во все стороны, друг другу равны. Этот единственный луч, самый сильный и самый яркий из всех, имеет то свойство, что всякое протяжение кажется наибольшим, когда в него ударяется этот луч. Можно было бы многое сказать об этом луче, но достаточно сказать одно: теснимый другими лучами, он последним покидает видимый предмет, почему его по праву можно именовать князем всех лучей. Я как будто достаточно показал, что с изменением расстояния и с изменением положения центрального луча поверхность тотчас же покажется иной. Итак, расстояние и положение центрального луча имеют большое значение для ясности зрения.
Но вот еще нечто третье, от чего поверхность кажется нам изменившейся. Это зависит от освещения. Мы видим, что шаровые и вогнутые поверхности при почти одном и том же освещении имеют одну часть темную, а другую светлую. И хотя расстояние и положение центральной линии не меняются, все же, если ты передвинешь свет в другое место, мы увидим, что те части, которые были светлыми, теперь темные, а светлые стали те, которые были темными. А если бы кругом было много источников света, то, в зависимости от их числа и силы, ты увидел бы много светлых и темных пятен.
<...> Мы сказали все, что нужно было сказать о пирамиде и о сечении - о том, что я обычно в кругу своих друзей объясняю более пространно, со всякими геометрическими выкладками, которые я, ради краткости, считаю возможным опустить в этих записках. Я здесь изложил только самые первые наметки искусства, и я потому называю их наметками, что они должны служить начальной основой хорошей живописи для мало образованных живописцев. Однако они таковы, что тот, кто их хорошо усвоит, поймет, насколько они ему полезны как для его дарования, так и для усвоения определения живописи. И пусть никто не думает, что хорошим живописцем может быть тот, кто не понимает всего того, что он пытается сделать. Напрасно натягивать лук, если ты не знаешь, куда направить свою стрелу. И я хочу, чтобы каждый вместе с нами убедился в том, что отменным живописцем будет только тот, кто научится распознавать края поверхности и все ее качества. И наоборот, никогда не будет хорошим художником тот, кто не приложит величайшего старания к познанию того, что мы сказали до сих пор.
Итак, все эти сечения и поверхности были необходимы. Теперь следует написать о том, каким образом живописец может выполнить рукою то, что он охватил умом.
<...> Живопись делится на три части, деление же это мы заимствовали у природы.
Раз живопись стремится изображать видимые предметы, обратим внимание на то, как мы видим эти предметы. Видя какую-нибудь вещь, мы прежде всего говорим, что это - вещь, занимающая определенное место. Здесь живописец, очерчивающий это пространство, скажет, что произведенное им обведение края при помощи линий есть очертание.
Затем, разглядывая видимое тело, мы замечаем, как сочетаются все его многочисленные поверхности, и здесь художник, размещая их по своим местам, скажет, что он занимается композицией.
Наконец, мы с большой отчетливостью определяем цвета и качества этих поверхностей, изображая их так, что каждое их различие порождается светом, и это мы собственно и можем назвать освещением.
Итак, живопись слагается из очертания, композиции и освещения.
Обо всем этом и следует коротко поговорить.
Сначала мы скажем об очертании. Очертанием в живописи будет то, что кругом очерчивает края. В этом Паррасий, тот живописец, что у Ксенофонта беседует с Сократом, был, говорят, весьма опытен и много изучал эти линии. Так вот я утверждаю, что в этих очертаниях нужно всячески добиваться того, чтобы они состояли из тончайших линий, почти ускользающих от взора, в чем обычно упражнялся живописец Апеллес и состязался с Протогеном. А так как очертание - не что иное, как рисунок края, то, если оно сделано слишком заметной линией, покажется, что это не граница поверхности, а трещина, и я хотел бы, чтобы при очерчивании не стремились ни к чему другому, как только к тому, чтобы проследить край; а для этого, утверждаю я, требуется много упражнений. Никакая композиция и никакое освещение не достойны похвалы, если к ним не прибавлены хорошие очертания, и нередко можно видеть, что хорошие очертания, то есть хороший рисунок, сами по себе весьма привлекательны.
<...> Однако случается нередко, что люди, прилежные и жадные до учения, все же, не умея учиться, утомляются не менее, чем от работы, которая им в тягость; поэтому мы и скажем, каким путем можно сделаться сведущим в этом искусстве. Пусть никто не сомневается, что основа и начало этого искусства, равно как и каждая его ступень в достижении мастерства, должны черпаться из природы; совершенствование же в искусстве достигается прилежанием, упорством и старанием. Я хочу, чтобы молодые люди, которые только что, как новички, приступили к живописи, делали то же самое, что, как мы видим, делают те, которые учатся писать. Они сначала учат формы всех букв в отдельности, то, что у древних называлось элементами, затем учат слоги и лишь после этого - как складывать слова.
Пусть этот же порядок соблюдается и у нас, в живописи. Сначала пусть они выучат каждую отдельную форму каждого члена и запомнят, каковы могут быть различия в каждом члене. Различий же в членах немало, и они весьма очевидны. У одного ты увидишь торчащий и горбатый нос, у других ноздри обезьяны и широко вывернутые, иные будут вытягивать свои отвислые губы, а иные будут наделены тощими губами, - и так пусть живописец разглядит все доедина в каждом отдельном члене и сделает их, в зависимости от этого, более или менее отличными друг от друга. И пусть он также приметит, что, как мы это видим, члены наши в детстве округлы, словно выточены на токарном круге, и нежны, а в более зрелом возрасте они неровны и угловаты. Таким образом прилежный живописец все это узнает из природы и сам для себя тщательнейшим образом рассмотрит, как это все устроено. В этом исследовании и в этой работе глаз и внимание художника должны быть непрерывно начеку; он обратит внимание на лоно сидящего, обратит внимание на то, как мягко у него свисают ноги; он будет наблюдать все тело стоящего, и не будет в этом теле ни одной части, назначение и мера которой ему были бы неизвестны. И он не удовольствуется только передачей сходства всех частей, но позаботится и о том, чтобы придать им красоту, ибо в живописи изящество не только приятно, но и необходимо.
<...> Но в чем бы ты ни упражнялся, всегда имей перед глазами отборный и незаурядный образец, который ты должен, рассматривая его, воспроизводить; воспроизводя же его, ты должен, полагаю я, сочетать точность с быстротой. Никогда не берись за карандаш или за кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо, поистине, проще исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их с картины. Притом после того, как мы привыкнем ничего не делать без предварительного плана, мы добьемся скорости письма большей, чем Асклепиодор, древний живописец, который, как говорят, писал быстрее всех других. Ведь талант, приводимый в движение и воодушевляемый упражнением, приобретает меткость и свободу в работе, а рука, управляемая определенным замыслом таланта, быстрее всего за ним поспевает. А если и бывают ленивые художники, то ленивы они потому, что они медлительны и боязливо пытаются делать такие вещи, которых они предварительно не познали и не уяснили себе в уме. И так, объятые мраком собственных ошибок, они, как слепец своим посохом, будут нащупывать своей кистью то одну, то другую дорогу. Вот почему рука никогда не должна касаться работы, если ею не управляет хорошо обученное дарование. <...>
|
ПОИСК:
|
© PAINTING.ARTYX.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'