



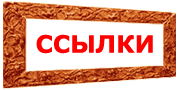
Раздел III. КОМПОЗИЦИЯ
Л. АЛЬБЕРТИ
Три книги о живописи
Книга вторая
... Разглядывая видимое тело, мы замечаем, как сочетаются все его многочисленные поверхности, и здесь художник, размещая их по своим местам, скажет, что он занимается композицией.
Наконец, мы с большой отчетливостью определяем цвета и качества этих поверхностей, изображая их так, что каждое их различие порождается светом, и это мы, собственно, и можем назвать освещением.
... Необходимо знать, что есть композиция в живописи. Я утверждаю, что композиция есть то правило живописи, согласно которому сочетаются части написанного произведения. Величайшая задача живописца - история («историческая», то есть сюжетная, многофигурная композиция). ... Композиция есть то правило живописи, при помощи которого отдельные части видимых предметов сочетаются на картине. Какая величайшая задача для живописца - изобразить колосса! А история? История - большая заслуга для таланта, чем любой колосс. ... Из композиции поверхностей рождается то очарование в телах, которое называют красотой. Если видишь лицо, на котором поверхности то большие, то маленькие, здесь - выпуклые, а там - глубоко запавшие, как на лице старушек, это производит впечатление большого уродства. Когда же поверхности соединяются на лице так, что они принимают на себя приятные и мягкие тени и света и не имеют жестких торчащих углов, мы, конечно, скажем, что эти лица прелестны и нежны. Итак, в композиции поверхностей следует всячески искать прелести и красоты предметов, для достижения чего, как мне кажется, нет более подходящего и верного пути, чем заимствовать эту композицию у природы, следя за тем, как она, эта удивительная мастерица всех вещей, отменно компонует поверхность в прекрасных телах. Однако чтобы подражать ей, необходимы постоянные размышления и внимание и большое пристрастие к нашей, описанной выше, завесе. А когда мы хотим применить на деле то, что мы уразумели в природе, то мы всегда первым делом заметим себе те границы, в пределах которых мы проводим наши линии к определенному месту.
До сих пор было сказано о композиции поверхностей. Теперь следует сказать о членах тела. Прежде всего надо следить за тем, чтобы отдельные члены хорошо соответствовали друг другу. Соответствовать же друг другу они будут в том случае, если они по величине, назначению, виду, цвету и тому подобному, в свою очередь, будут соответствовать единой красоте. Ибо если в картине будет огромнейшая голова и маленькая грудь, широкая рука, распухшая нога и вздувшееся тело, такая композиция, без сомнения, окажется безобразна на вид. Итак, необходимо держаться определенного правила в отношении величины членов тела. Для такой соразмерности следует сначала связать каждую кость в живом существе, затем приложить его мышцы и наконец целиком облечь его плотью. Однако здесь найдутся такие, которые возразят мне то же, что я говорил выше, а именно, что живописцу нет дела до того, чего он не видит. Они хорошо делают, что об этом напоминают, однако ведь прежде, чем одеть человека, мы рисуем его голым, а затем уже облекаем в одежды, и точно так же, изображая голое тело, мы сначала располагаем его кости и мышцы, которые мы уже потом покрываем плотью так, чтобы нетрудно было распознать, где под ней помещается каждая мышца. А так как природа дала нам такое средство, как измерения, познание которых доставляет немалую пользу, так пусть же прилежные живописцы в своей работе заимствуют их у природы и, приложив все свои усилия и старания к познанию их, пусть они держат в памяти то, что они у нее заимствовали. <...>
После этого надо позаботиться о том, чтобы каждый член действовал согласно своему назначению в данном месте. Бегущему подобает выбрасывать руки не меньше, чем ноги, но хотелось бы, чтобы философ во время своей речи обнаруживал больше скромности, чем фехтовального искусства. Хвалят в Риме одну историю (сюжетную многофигурную композицию), в которой мертвый Мелеагр отягощает своим грузом несущих его и каждым своим членом кажется действительно мертвым; все в нем свисает - руки, палец и голова, все дрябло ниспадает, все, что может выразить мертвое тело, а это поистине очень трудно, ибо только тот будет обладать высшим мастерством, кто сумеет изобразить каждый член в бездействии. Итак, в каждой картине и нужно соблюдать, чтобы всякий член выполнял свое назначение и чтобы ни один хотя бы малейший его сустав не оставался в бездействии. Члены же мертвецов должны быть мертвыми до кончика ногтей, а у живых мельчайшая часть должна быть живой. Тело называется живым, когда оно обладает собственным произвольным движением, мертвым - когда члены его больше не могут выполнять своих жизненных обязанностей, то есть когда они лишены движения и чувства. Итак, живописец, желая выразить жизнь в предметах, будет каждую их часть изображать в движении. Но в каждое движение он будет вкладывать красоту и изящество. Особенно изящны и очень живы те движения, которые устремляются вверх к небу.
Кроме того, о композиции членов тела я говорил, что нужно различать определенные ее виды. Было бы нелепо, если бы у Елены или Ифигении были старческие и готические руки, или если бы у Нестора была мягкая грудь и изнеженная шея, или у Ганимеда - морщинистый лоб и ляжки грузчика, или у Милона, сильнейшего из всех - худенькие и узенькие бедра, и, наконец, нелепо было бы высохшие от худобы руки и кисти прибавлять к фигуре, у которой лицо свежее, словно кровь с молоком... Кроме того, я хочу, чтобы члены соответствовали определенному цвету, ибо человеку с лицом румяным, чистым и красивым никак не пристало бы иметь грудь и прочие члены некрасивые и грязные. Итак, в композиции членов тела мы должны следовать тому, что я говорил о величине, назначении, виде и цвете. <...>
Далее следует композиция тел, в которой проявляются все заслуги и все дарования живописца и к которой относится многое из сказанного по поводу композиции членов тела. В истории тела должны быть согласованы друг с другом как по величине, так и по своим действиям. Было бы нелепо, если бы на картине, которая изображает кентавров, ссорящихся после пира, кто-нибудь из них при такой суматохе заснул, нагрузившись вином. И было бы ошибочно, если бы на одинаковом расстоянии один был бы больше другого, или если бы собаки были одного роста с лошадьми, или если бы, как я это часто вижу, человек был заключен в здание как в футляр, в котором он и сидя едва помещается. Итак, все тела как по своим размерам, так и по своим действиям должны подчиняться тому, что происходит в истории. История заслуживает твоих похвал и твоего восхищения, если она со всеми своими прелестями будет казаться настолько нарядной и привлекательной, что порадует и взволнует всякого зрителя, ученого или неученого.
То, что в истории прежде всего доставляет нам наслаждение, проистекает от обилия и разнообразия изображенного. Как в кушаниях и в музыке новизна и обилие нравятся нам тем больше, чем больше они отличаются от старого и привычного, ибо душа радуется всякому обилию и разнообразию, - так обилие и разнообразие нравятся нам в картине. Я скажу, что та история наиболее богата, в которой перемешаны, находясь каждый на своем месте, старики, юноши, мальчики, женщины, девочки, дети, куры, собачки, птички, лошади, скот, постройки, местности и всякого рода подобные вещи. И я буду хвалить всякое изобилие, только бы оно имело отношение к данной истории. Ведь бывает же, что щедрость живописцев вызывает особую признательность, когда зритель останавливается вновь и вновь, разглядывая все, что изображено на картине. Но я хотел бы, чтобы обилие это было украшено некоторым разнообразием, а также чтобы оно было умеренным и полным достоинства и стыдливости. Я осуждаю тех живописцев, которые, желая казаться щедрыми, не оставляют пустого места и этим вместо композиции сеют самое разнузданное смятение, так что история перестает казаться чем-то достойным, но как бы вся охвачена суматохой. И, быть может, кто будет стремиться придать вящее достоинство своей истории, тот предпочтет одинокие фигуры. Скупость слов придает величие правителям, внушающим свои веления; точно так же и в истории - определенное, ограниченное число фигур придает ей немалое достоинство. Все же я не одобряю одиноких фигур в истории, но и не хвалю изобилия, лишенного достоинства. Однако во всякой истории разнообразие было всегда приятно, и в первую голову нравилась та картина, в которой тела по своим положениям очень не похожи друг на друга. Итак, пусть некоторые стоят прямо и показывают все лицо, с поднятыми руками, весело перебирая пальцами и опираясь на одну ногу. Другие, отвратив лицо и опустив руки, пусть стоят, сложив ступни вместе. Так пусть у каждого будет свое движение и свой поворот членов: пусть один сидит, другой опирается на колено, иные пусть лежат. А если это будет уместно, пусть кто-нибудь будет обнаженным, а другие частью обнаженными, частью одетыми, так, однако, чтобы всегда соблюдались стыдливость и целомудрие. Некрасивые на вид части тела и другие им подобные, не особенно изящные, пусть прикрываются одеждой, какой-нибудь веткой или рукой...
История будет волновать душу тогда, когда изображенные в ней люди всячески будут проявлять движения собственной души. Самой природой, которая одна только и может объять собственные свои образы, устроено так, что мы плачем с плачущим, смеемся со смеющимся и горюем с горюющим. Однако эти движения души познаются из движения тела. И если взять огорченного человека, теснимого заботой и осаждаемого мыслями, мы видим, как эти люди стоят, словно оцепенелые в своих способностях и чувствах, вялые и ленивые в своих повадках, с побледневшими членами своего тела, которых они не в силах поддерживать. Ты увидишь у меланхолика напряженный лоб, поникшую шею - в общем, каждый член его тела свисает как бы устало и безразлично. Зато у разгневанного человека, поскольку гнев возбуждает душу, раздуваются от ярости глаза и лицо, его бросает в краску, и он размахивает своими членами с тем большей дерзостью, чем сильнее его бешенство. У людей веселых и шутливых движения свободные, не без обаяния в каждом повороте. Говорят, что фиванец Аристид, не уступивший Апеллесу, очень хорошо знал эти движения, которые, конечно, и мы узнаем, когда приложим к тому должные старания и усердие.
Итак, значит, необходимо, чтобы все движения тела были точно известны живописцам, которые научатся этому у природы, хотя, правда, подражать всем движениям души - дело нелегкое. И кто может поверить, сам этого не испытав, насколько трудно, желая изобразить смеющееся лицо, избежать того, чтобы не сделать его скорее плачущим, чем веселым. А также кто мог бы, не потратив на это величайшего усердия, изобразить такие лица, в которых рот, подбородок, глаза, щеки, лоб, брови - одним словом, все соответствовало бы единому выражению смеха или плача? Посему следует учиться этому у природы и всегда изучать очень совершенные вещи, а также такие, которые заставляют зрителя предполагать в мыслях гораздо больше того, что он видит.
Но дабы сообщить об этих движениях кое-что из того, что мы частью осуществили собственными силами, а частью переняли у природы, мне кажется, что все тела должны двигаться в соответствии с замыслом данной истории. И мне нравится, если в истории кто-нибудь обращает наше внимание и указывает на то, что в ней происходит, или манит нас рукой посмотреть, или сокрушенным лицом и смущенным взором предупреждает нас не подходить к тем, кто на картине, или обнаруживает либо какую-нибудь опасность, либо какое-нибудь чудо, или приглашает тебя вместе с ним поплакать или посмеяться. Итак, что бы изображенные лица ни делали по отношению друг к другу или к тебе, все должно служить для тебя украшением и истолкованием истории. <...>
Некоторые движения души называются аффектами, как-то: горе, радость и страх, вожделение и тому подобное, они же - движения тела. Тела двигаются по-разному: вырастая и убывая, хирея и здоровея и, наконец, с места на место. Но мы, живописцы, которые хотим при помощи движений тела показать движения души, будем касаться только движения с места на место. Всякий предмет, покидающий свое место, может идти семью путями: во-первых - вверх, во-вторых - вниз, в третьих - вправо, в-четвертых - влево, а также двигаясь отсюда туда или оттуда сюда и, наконец, в-седьмых - двигаясь кругом. Итак, я желаю, чтобы все эти движения имели место в картине: пусть на ней одни тела движутся к нам, другие - от нас в ту или другую сторону, и пусть в одном и том же теле одни части будут видны зрителю, другие от него скрыты, пусть одни будут высоко, другие низко. <...>
Ведь движения на картине должны быть мягкими и приятными, а также соответствующими тому, что на ней происходит. Движения и позы дев должны быть чинными, полными простоты, и в них скорее должна чувствоваться нежность покоя, чем сила, хотя Гомеру, которому в этом следовал Зевксис, нравились могучие формы даже у женщин. Движения мальчиков должны быть легкими, веселыми, обнаруживать некоторое величие духа и хорошую силу. Движения мужчин должны отличаться большей твердостью, красивыми и искусными позами. У стариков движения и позы должны быть усталыми, и они должны держаться не только на обеих ногах, но и руками. Так пусть в каждом телесные движения выражают с достоинством движения его души, и пусть сильнейшим душевным волнениям отвечают подобные им сильнейшие движения членов тела. Эти общие правила движений должны соблюдаться для всех живых существ. Ведь не пристало бы придать пашущему волу те же движения, которые ты придал бы Буцефалу, могучему коню Александра. Правда, быть может, и неплохо было бы изобразить на картине обращенную в корову Ио бегущей с торчащим и закрученным хвостом, задравшей шею и с поднятыми ногами. Достаточно сказанного о движении живых существ. <...>
Смотри только, не делай, как многие, которые учатся рисовать на маленьких дощечках. Я хочу, чтобы ты упражнялся в больших рисунках, почти равных по величине тому, что ты срисовываешь, ибо в маленьких рисунках легко скрадывается любая большая ошибка, но малейшая ошибка прекрасно видна на большом рисунке. <...>
Никогда не берись за карандаш или за кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо, поистине, проще исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их с картины. Притом после того, как мы привыкнем ничего не делать без предварительного плана, мы добьемся скорости письма
Однако высшим достижением живописца является история, которая должна отличаться обилием и отбором всевозможных вещей, необходимо заботиться о том, чтобы уметь написать не только человека, но также лошадей, собак и всех прочих животных и вообще все то, что достойно быть видимым. Это необходимо для того, чтобы история наша была как можно более богатой, что, признаюсь тебе, - дело величайшей важности. <...>
Дары природы нужно возделывать трудом и упражнением и этим увеличивать их изо дня в день и не упускать по нерадению ничего из того, что может стяжать нам похвалу.
Когда же нам придется писать историю, мы сначала про себя основательно продумаем, какого рода она должна быть и какое размещение будет для нее самым красивым. Прежде всего мы сделаем себе наброски и эскизы как для всей истории, так и для каждой ее части и созовем всех друзей, чтобы с ними об этом посоветоваться. И так мы будем стремиться к тому, чтобы каждая часть была нами предварительно как следует обдумана, и чтобы мы знали, где она должна быть, как ее сделать и как поместить. А чтобы во всем иметь лучшую уверенность, мы расчертим свои эскизы параллелями и, таким образом, с наших набросков, как из частной записной книжки, перенесем на картину, предназначенную для общественного обозрения, каждое положение и место изображенных вещей. В работе над историей мы будем проявлять ту быстроту, соединенную с точностью, благодаря которой не испытываешь от работы ни скуки, ни пресыщения; однако мы будем избегать той страсти поскорее закончить вещь, которая заставляет нас работать кое-как. А иногда хорошо бывает прервать свой труд над работой и развлечь душу. И не следует поступать, как некоторые, которые берутся сразу за много вещей, начиная сегодня одну, а завтра другую, и оставляют их незаконченными, но ту вещь, за которую ты взялся, надо доводить до совершенства во всех ее частях. Когда некто показал свою картину Апеллесу, говоря: «Я сделал это сегодня», тот ответил ему: «Я не удивился бы, если бы ты сделал еще несколько таких же». Я видывал живописцев и скульпторов, а также риторов и поэтов, - если только в наш век бывают риторы и поэты, - которые с пылким увлечением отдавались какому-нибудь произведению, а затем, когда пыл их вдохновения остывал, они бродили начатую вещь в наброске и с новой страстью принимались за другие. Таких людей я безусловно порицаю, ибо всякий, кто хочет, чтобы его вещи были приятны и приемлемы для потомства, должен прежде всего как следует обдумать то, что он собирается делать, а затем довести это до совершенства с великим прилежанием. Ведь ни в ком так не ценится прилежание, как в даровитом человеке; однако необходимо избегать и кропотливости тех, которые хотят, чтобы все было безупречно и уж слишком чисто, и под руками которых вещь стареет и грязнится прежде, чем они ее закончат. <...>
|
ПОИСК:
|
© PAINTING.ARTYX.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'