



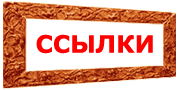
Раздел II. ЖИВОПИСЬ
Л. АЛЬБЕРТИ
Три книги о живописи
…Мне кажется очевидным, что цвета изменяются под влиянием света, ибо каждый цвет, помещенный в тени, кажется не тем, какой он на свету. Тень делает цвет темным, а свет, в том месте, куда он ударяег, делает его светлым. Философы говорят, что нельзя видеть ничего, что не было бы освещенным и окрашенным. <...> Итак, цвета в отношении видимости очень родственны светам; а насколько они родственны, ты видишь по тому, что при отсутствии света отсутствуют и цвета, а по возвращении света возвращаются и цвета. Итак, сначала мне хочется сказать о цветах, а затем исследуем, как они изменяются при свете. Будем рассуждать как живописцы. Я утверждаю, что от смешения цветов рождается бесконечное множество других цветов, но истинных цветов столько, сколько стихий, - четыре, от которых, постепенно умножаясь, рождаются другие виды цветов. Цветом огня будет красный, воздуха - голубой, воды - зеленый и земли - серый или пепельный. <...> Другие цвета, как яшма и порфир, - смесь этих цветов. Итак, существуют четыре рода цвета, которые образуют свои виды в зависимости от прибавления темного или светлого, черного или белого; эти виды почти неисчислимы. Мы видим, как зеленая листва постепенно теряет свою зелень, пока она не становится блеклой. Также и в воздухе около горизонта нередко бывает белесый туман, и он мало-помалу сходит на нет. И в розах мы видим, что в некоторых много пурпура, некоторые похожи на девичий румянец, некоторые - на слоновую кость. Также и земля, в зависимости от белого и черного, имеет свои виды расцветки.
Итак, примесь белого не меняет род цвета, но создает его разновидности. Также и черный цвет обладает подобным же свойством - производить своей примесью бесчисленные разновидности цветов. Мы видим, что в тени цвета густеют, а когда усиливается свет, цвета становятся ярче и светлее. Поэтому нетрудно убедить живописца, что белое и черное не суть настоящие цвета, но лишь изменения других цветов, ибо живописец не найдет другого цвета, кроме белого, при помощи которого он мог бы изобразить крайний блеск на свету, и точно так же только черным можно представить мрак. Добавь, что ты никогда не найдешь белого или черного, которые не были бы разновидностью одного из четырех цветов.
Мы в своих наметках достаточно показали, насколько освещение способно изменять цвета, разъяснив, каким образом один и тот же цвет, оставаясь на месте, изменяет свой вид в зависимости от получаемых им света или тени. И мы говорили, что для живописца белое и черное выражает свет и тень и что все прочие цвета для живописца - как бы материя, к которой он прибавляет больше или меньше тени или света. Итак, оставляя все прочее в стороне, нам здесь остается сказать, каким образом живописец должен пользоваться своим белым и черным. Говорят, что древние живописцы Полигнот и Тиманф пользовались четырьмя основными цветами и удивлялись тому, что Аглаофон охотно писал одним-единственным цветом, полагая, что при наличии огромного числа цветов слишком мало тех немногих, которые выбрали эти отменные живописцы, и считая, что тароватому художнику пристало пользоваться всем бесчисленным множеством цветов. Конечно, и я утверждаю, что обилие и разнообразие цветов весьма содействует прелести и качеству живописи, однако мне хочется, чтобы и ученые признали, что высшее мастерство и искусство заключается в умении пользоваться белым и черным и что к умению пользоваться этими двумя цветами следует прилагать все свое рвение и старание, ибо свет и тень заставляют вещи казаться выпуклыми. <...> Точно так же белое и черное заставляют написанные вещи казаться выпуклыми, и этим стяжается та слава, которую воздавали афинскому живописцу Никию.
Говорят, что Зевксис, древнейший и известнейший живописец, почитался как бы главой всех остальных в познании свойств светов и теней и что подобная слава была уделом немногих. Я же не сочту даже средним живописцем того, что как следует не знает, какими свойствами обладает каждый свет и каждая тень на любой поверхности. Я утверждаю, что как ученые, так и неученые одинаково похвалят те лица, которые, словно изваянные, кажутся выступающими из картины, и будут порицать те лица, в которых не видно другого искусства, как разве только в рисунке. Я хотел бы, чтобы хороший рисунок и хорошая композиция имели также хорошую расцветку. Поэтому первым делом надо изучать все, что касается светов, и все, что касается теней, и обращать внимание на то, как одна поверхность, на которую падают световые лучи, светлее другой и как там, где недостает силы света, так же цвет становится темнее. И пусть примечают, что всегда против света с другой стороны ему соответствует тень, так что ни в одном теле не будет освещенной части без того, чтобы в нем не было другой, отличной от нее, темной части.
Что же касается подражания светлому при помощи белого и подражания тени при помощи черного, я заклинаю, чтобы прилагали всяческие старания к познанию различий поверхностей в зависимости от того, насколько каждая из них покрыта светом или тенью. Это ты сам прекрасно можешь усвоить, наблюдая природу, и когда ты это усвоишь, ты, где нужно, очень скупо, начнешь наносить белое и тотчас же с противоположной стороны, где нужно,- черное, ибо благодаря такому уравновешиванию белого и черного выпуклость вещей делается очень заметной, и так постепенно, с должной скупостью, ты будешь продолжать, прибавляя белого и прибавляя черного, пока не будет достаточно. И для усвоения этого хорошим судьей послужит тебе зеркало. Не знаю почему, но хорошо написанные вещи приобретают в зеркале особую прелесть, и удивительно, как всякий недостаток картины обнаруживает в зеркале свое уродство. Итак, вещи, взятые из природы, должны исправляться при помощи зеркала. Здесь же мы расскажем то, чему мы научились у природы. Я заметил, что на плоской поверхности цвет всюду однороден, на вогнутых же и шаровых поверхностях он приобретает различия, ибо здесь он светлый, там темный, а в другом месте - средний цвет Это изменение цветов обманывает глупых живописцев, которые, если бы они обрисовали края поверхности так, как мы говорили, легко сумели бы разместить на них и цвета. А поступили бы они так: они сначала как бы легчайшей росой покрыли бы поверхность белым или черным, в зависимости от того, где это требуется, и затем сверх этого еще раз, и еще раз, и так далее, постепенно, так, чтобы там, где больше света, было кругом больше белого, а где света меньше, чтобы белое сходило на нет, как бы в дымке. И подобным же образом в противоположных местах они поступили бы с черным.
Но помни, что никогда не следует делать какую-либо поверхность настолько белой, чтобы нельзя было сделать ее куда белее. Даже если надеты ослепительно белые одежды, ты должен остановиться гораздо ниже предельной белизны. Живописец не располагает ничем другим, кроме белого, для изображения предельного блеска самого отточенного меча и ничем, кроме черного, для изображения ночного мрака. Но какой силой обладает правильное сопоставление белого рядом с черным, ты видишь из того, что благодаря этому сосуды кажутся серебряными, золотыми или стеклянными и кажутся блестящими, хотя они только написаны. Поэтому величайшего порицания заслуживает тот живописец, который пользуется белым и черным, не соблюдая строгой меры. Хорошо было бы, если бы белое продавалось живописцам дороже, чем самые драгоценные самоцветы. Было бы, без сомнения, очень полезно, если бы белое и черное изготовлялись из тех огромных жемчужин, которые Клеопатра растворила в уксусе, ибо тогда живописцы на них в должной мере скупились бы, их берегли бы, и произведения были бы правдивее, нежнее и прелестнее. Нет слов, чтобы выразить, насколько художник должен быть с ними бережлив, а если он в распределении их ошибся, то менее повинен тот, который применил много черного, чем тот, который плохо наложил белое. Изо дня в день природа приводит тебя к тому, что ты начинаешь ненавидеть шершавые и темные предметы, и чем большему рука научается в работе, тем более она делается чувствительной к прелести изящного. Мы, без всякого сомнения, от природы любим все открытое и светлое. Итак, необходимо заграждать тот путь, на котором легче ошибиться.
Сказав о белом и черном, скажем о прочих цветах, но не как архитектор Витрувий - в каком месте рождается каждая лучшая и наиболее испытанная краска, - а скажем о том, каким образом хорошо растертые краски применяются в живописи. Говорят, что Ефранор, древнейший живописец, что-то написал о красках, но этого теперь не найти. Мы же, если это когда-либо и было написано, выкопали это искусство из земли, а если об этом никогда не писалось, мы добыли его с неба. Итак, будем следовать нашему разуму, как мы это делали до сих пор. Я хотел бы, чтобы в картине можно было видеть все рода цветов и все виды каждого рода, к великой радости и удовлетворению смотрящего. Удовлетворение это получится, когда каждый цвет будет сильно отличаться от соседнего, так что если ты напишешь Диану, ведущую хоровод нимф, пусть у одной нимфы будут зеленые одежды, у другой - белые, у третьей - розовые, у четвертой - шафранные, и так у каждой - разный цвет, но чтобы всюду светлые цвета находились рядом с другими, отличными от них, темными. Благодаря такому сопоставлению красота цветов на картине будет более ясной и более привлекательной. Ведь имеется некая дружба между цветами, так что один, присоединяясь к другому, придает ему достоинство и прелесть. Розовый цвет, зеленый и голубой, будучи сопоставлены вместе, делаются от соседства друг с другом достойными и видными. Белый цвет раздует не только рядом с пепельным и шафранным, но почти что со всяким другим. Темные цвета не лишены известного достоинства в окружении светлых, и точно так же светлые хорошо сочетаются в окружении темных.
Итак, живописец будет располагать свои цвета так, как я сказал. <...>
|
ПОИСК:
|
© PAINTING.ARTYX.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://painting.artyx.ru/ 'Энциклопедия живописи'